Пётр Иванович Адуев стоял у окна своего петербургского кабинета и смотрел на Неву. Двадцать лет прошло с тех пор, как он с такой методической настойчивостью переделал романтического племянника в практического человека. Теперь ему самому минуло шестьдесят, и странная тоска, которой он никогда не знал прежде, начинала посещать его по вечерам.
Александр Фёдорыч Адуев, некогда восторженный юноша, а ныне статский советник и владелец доходных домов, должен был приехать сегодня с визитом. Дядя и племянник не виделись пять лет — оба были слишком заняты делами, чтобы тратить время на родственные сантименты.
— Барин, Александр Фёдорыч пожаловали, — доложил слуга.
Пётр Иванович оторвался от окна и обернулся. В дверях стоял полный, солидный господин с бакенбардами, в которых уже проступала седина. В его фигуре не осталось ничего от того бледного, восторженного юноши, который двадцать лет назад ворвался в этот самый кабинет с тетрадкой стихов и пылкими речами о любви, дружбе и искусстве.
— А, Александр! — сказал Пётр Иванович, протягивая руку. — Входи, садись. Ну что, как дела?
— Превосходно, дядюшка, — отвечал Александр, усаживаясь в кресло с видом человека, привыкшего к комфорту. — Третий дом достроил на Литейной. Жильцы уже въехали. Доход — восемь тысяч годовых чистыми.
Пётр Иванович кивнул с одобрением, но что-то в глубине его глаз дрогнуло.
— Молодец, — произнёс он. — А как Лизавета Александровна? Здорова ли?
— Благодарствую. Супруга здорова. Дети растут. Старший уже в гимназии, подаёт надежды на медицинское поприще.
— Медицинское? — переспросил дядя. — Что ж, дело полезное.
Наступило молчание. Пётр Иванович вдруг почувствовал странное беспокойство. Он смотрел на племянника и видел в нём... себя. Того себя, каким был двадцать лет назад: уверенного, практичного, лишённого всяких иллюзий. Но теперь это зрелище почему-то не радовало его.
— Скажи мне, Александр, — начал он медленно, — ты помнишь, как приехал в Петербург в первый раз?
Александр поморщился.
— Помню, дядюшка. Глупое было время. Я тогда много вздору нёс про чувства, про поэзию... Благодарю вас, что вылечили меня от этой болезни.
— Вылечил... — повторил Пётр Иванович задумчиво. — Да, верно, вылечил.
Он подошёл к бюро и выдвинул ящик. Там, под деловыми бумагами, лежала старая тетрадь в потёртом переплёте.
— Узнаёшь? — спросил он, протягивая её племяннику.
Александр взял тетрадь и раскрыл. На первой странице его собственным почерком, юношеским, порывистым, было выведено: «Стихотворения. Александр Адуев. 1843 год».
— Господи, — пробормотал он, краснея. — Вы сохранили этот вздор?
— Сохранил, — кивнул Пётр Иванович. — Сам не знаю зачем. Может быть, хотел когда-нибудь показать тебе, чтобы посмеяться вместе.
Александр перелистывал страницы. Его лицо менялось. Сначала на нём было написано смущение, потом — ирония, но постепенно что-то иное проступило в его чертах.
— «К ней», — прочитал он вслух. — «Когда твой взор, полный неги и огня...» Боже, как я мог писать такое!
— А ты перечитай внимательнее, — сказал Пётр Иванович странным голосом.
Александр поднял глаза на дядю.
— Зачем?
— Затем, что я вчера перечитал. И знаешь, что я понял?
— Что?
Пётр Иванович отвернулся к окну.
— Что в этих стихах была жизнь. Глупая, наивная, смешная — но жизнь. А в моих бухгалтерских книгах и твоих доходных домах — только цифры.
Александр захлопнул тетрадь.
— Дядюшка, вы нездоровы? С вами всё в порядке? Это на вас не похоже.
— Не похоже, — согласился Пётр Иванович. — Потому что я всю жизнь был похож только на самого себя. И превратил тебя в свою копию. А теперь думаю: а что, если это была ошибка?
— Какая ошибка? — Александр встал, начиная тревожиться. — Вы дали мне дельные советы. Благодаря вам я стал человеком. У меня положение в обществе, капитал, семья...
— И пустота, — докончил дядя. — Разве нет?
Александр замолчал. В кабинете повисла тишина, нарушаемая только тиканьем английских часов на камине.
— Я... — начал Александр и осёкся.
— Ты хочешь сказать, что счастлив? — спросил Пётр Иванович, оборачиваясь. — Скажи мне честно, как родному человеку: ты счастлив?
Александр сел обратно в кресло. Его солидное, благополучное лицо вдруг осунулось.
— Я... не знаю, — признался он наконец. — Я никогда не задавал себе этого вопроса. Вы же сами учили меня, что счастье — выдумка романтиков.
— Учил, — кивнул Пётр Иванович. — А теперь, на старости лет, начинаю сомневаться. Знаешь, что случилось на прошлой неделе? Я встретил Лизавету Александровну — тётку твою, мою жену...
— Как встретили? Вы же живёте вместе.
— В том-то и дело, что живём вместе, а видимся редко. Она в своих комнатах, я в своих. Встречаемся за обедом, говорим о погоде и хозяйстве. И вот на прошлой неделе я зашёл к ней вечером — просто так, без дела — и застал её плачущей над письмами.
— Над какими письмами?
— Над моими. Которые я писал ей, когда мы были женихом и невестой. Тридцать пять лет назад. Оказывается, она сохранила их все. И плакала, перечитывая.
Александр молчал.
— Я спросил её: «Что ты плачешь, Лиза?» — продолжал Пётр Иванович. — Знаешь, что она ответила? «Плачу о том молодом человеке, который писал эти письма. Куда он делся, Пётр?» И я не нашёлся, что ответить.
За окном начинало темнеть. Слуга внёс свечи и бесшумно удалился.
— Дядюшка, — сказал наконец Александр, — к чему вы мне всё это рассказываете?
— К тому, что ты ещё молод. Тебе сорок, у тебя половина жизни впереди. Может быть, ещё не поздно...
— Не поздно — что?
Пётр Иванович подошёл к племяннику и положил руку ему на плечо.
— Не поздно вспомнить, кем ты был. Не тем наивным глупцом, которым я тебя выставлял — а человеком, способным чувствовать. Любить. Мечтать.
Александр резко встал.
— Это невозможно, — сказал он. — Я не могу вернуться назад. Я теперь другой человек.
— Другой? — переспросил дядя. — Или просто спрятавшийся за маской? Я ведь вижу, Александр. Я вижу, как ты слушал, когда третьего дня на вечере у Карасёвых молодой поэт читал свои стихи. Все зевали, а ты... ты смотрел так, будто что-то в тебе откликалось.
Александр отвёл глаза.
— Это были посредственные стихи.
— Может быть. Но дело не в стихах. Дело в том, что в тебе ещё что-то осталось. Я убил в себе это давно, но в тебе — не до конца.
Племянник подошёл к окну и встал рядом с дядей. Оба смотрели на вечерний Петербург: на фонари, зажигавшиеся вдоль набережной, на силуэты прохожих, на тёмную воду Невы.
— Знаете, дядюшка, — сказал Александр тихо, — иногда по ночам я просыпаюсь и думаю о Наденьке.
— О какой Наденьке?
— О Любецкой. Помните? Моя первая любовь. Та самая, которую вы называли «обыкновенной историей».
— Помню, — кивнул Пётр Иванович. — Она вышла замуж за графа... как его...
— Новинского. Они уехали за границу. Я слышал, она овдовела лет пять назад. Живёт в Ницце.
— И ты думаешь о ней?
Александр усмехнулся горько.
— Не о ней — о том чувстве. О том, как я тогда мог любить — безумно, безоглядно, всем существом. Когда её письма были для меня дороже всех сокровищ мира. Когда одно её слово могло поднять меня на небеса или низвергнуть в ад.
— И ты жалеешь, что утратил эту способность?
— Не знаю, дядюшка. Честно — не знаю. Вы правы были: такая любовь — источник страданий. Но теперь я иногда думаю: а что, если страдание — это тоже жизнь? Что, если, оберегая себя от боли, мы оберегаем себя и от радости?
Пётр Иванович молчал долго. Потом сказал:
— Я расскажу тебе одну вещь. Никому никогда не рассказывал. Когда мне было двадцать пять, я любил одну девушку. По-настоящему, так, как ты любил свою Наденьку. Она была бедна, без связей, без положения. Мой отец запретил мне даже думать о ней. И я послушался. Женился на Лизавете Александровне — она была хорошей партией. И прожил с ней тридцать лет... в благополучии.
— А та девушка?
— Умерла. Через год после моей свадьбы. От чахотки, говорили. Но я всегда думал, что от горя.
Александр посмотрел на дядю. Впервые за все эти годы он видел его таким — не наставником, не ментором, а живым человеком с живой болью.
— Почему вы никогда не говорили мне об этом?
— Потому что учил тебя тому, во что сам хотел верить. Что чувства — химера, что практичность — единственный путь. Я не мог признаться даже себе, что всю жизнь бежал от призрака той девушки.
Они стояли рядом у окна — два человека, дядя и племянник, учитель и ученик. Но сейчас было непонятно, кто из них кому урок преподаёт.
— Что же делать, дядюшка? — спросил Александр. — Нельзя же повернуть время вспять.
— Нельзя, — согласился Пётр Иванович. — Но можно не повторять ошибок в будущем. Твой старший сын — ты говоришь, он хочет быть врачом?
— Да.
— А ты бы хотел, чтобы он занялся твоими доходными домами?
Александр помолчал.
— Я бы хотел, чтобы он был счастлив, — сказал он наконец.
— Вот видишь, — улыбнулся дядя. — Ты уже не совсем пропащий человек.
В дверь постучали. Вошла Лизавета Александровна — постаревшая, но всё ещё красивая женщина с печальными глазами.
— Пётр, — сказала она удивлённо, — ты здесь? Я думала, ты в клубе.
— Нет, душа моя, — отвечал Пётр Иванович. — Я здесь, с Александром. Присядь с нами.
Она села, всё ещё не веря своим ушам. «Душа моя» — этих слов она не слышала от мужа, наверное, лет двадцать.
— Мы говорили о жизни, — сказал Пётр Иванович. — О том, что она обыкновенна — и необыкновенна одновременно.
Лизавета Александровна посмотрела на мужа, потом на племянника. Что-то изменилось в этом кабинете, она чувствовала это, хотя не могла объяснить.
— Александр, — сказала она, — ты останешься ужинать?
— Останусь, тётушка, — кивнул тот. — С удовольствием.
И впервые за много лет ужин в доме Адуевых прошёл не в молчании. Они говорили — не о делах, не о процентах, не о погоде — а о прошлом, о молодости, о мечтах, которые когда-то имели и потеряли.
Когда Александр уходил, было уже за полночь. На пороге он обернулся.
— Дядюшка, — сказал он, — можно я возьму ту тетрадь? Со стихами?
Пётр Иванович молча протянул ему потёртый томик.
— Возьми. Может, прочтёшь сыну. Пусть знает, что его отец когда-то умел мечтать.
Александр сжал тетрадь в руках и вышел в петербургскую ночь. Он шёл по набережной, и ему казалось, что он молод, что впереди целая жизнь, что всё ещё возможно.
Это была иллюзия, конечно. Обыкновенная иллюзия, каких много в жизни каждого человека. Но иногда именно такие иллюзии делают нашу обыкновенную историю — необыкновенной.













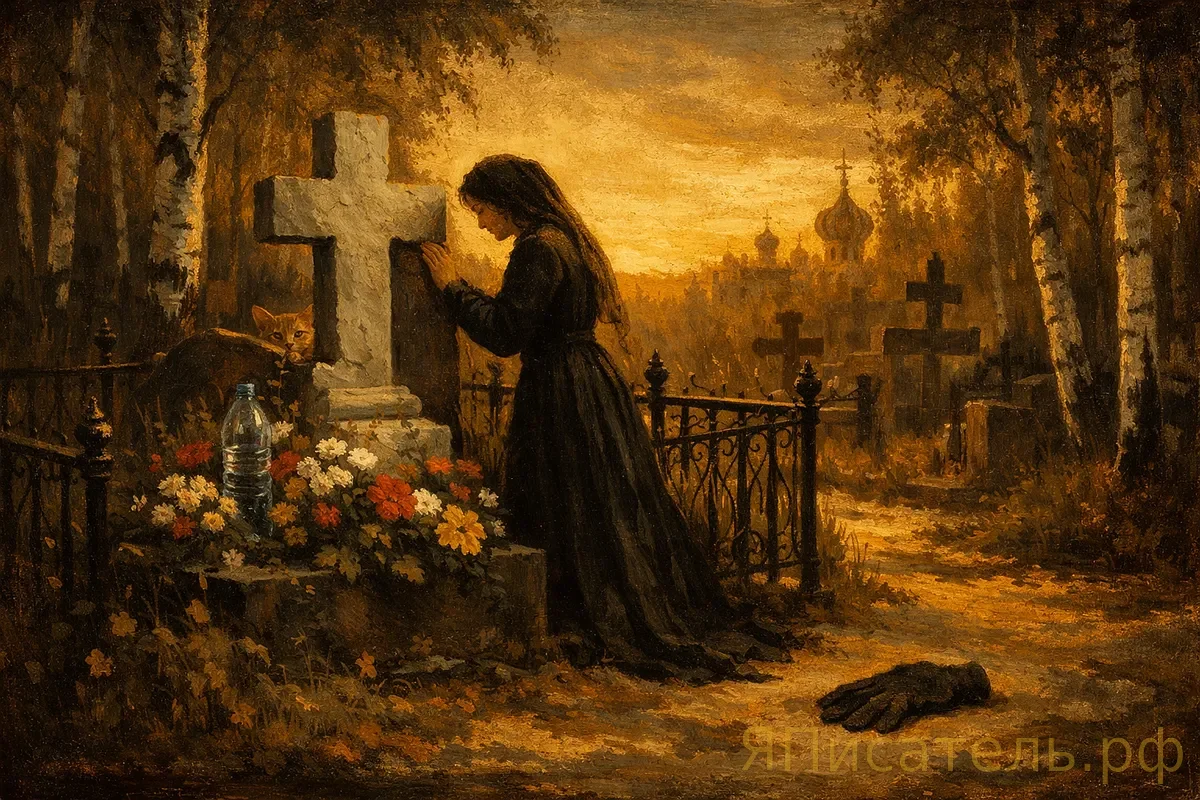




Загрузка комментариев...