Журнал Печорина: Забытые страницы

Творческое продолжение классики
Это художественная фантазия на тему произведения «Герой нашего времени» автора Михаил Юрьевич Лермонтов. Как бы мог продолжиться сюжет, если бы писатель решил его развить?
Оригинальный отрывок
Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить своё имя над чужим произведением. Дай бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог!
Продолжение
Я нашёл эти записи случайно, разбирая бумаги покойного Максима Максимыча. Старый штабс-капитан хранил их в потёртом кожаном портфеле, вместе с послужным списком и несколькими письмами от родственников. Пожелтевшие листки, исписанные знакомым мне почерком Печорина, относились, по всей видимости, к тому времени, когда он возвращался из Персии — к тому самому путешествию, из которого ему не суждено было вернуться.
Привожу эти записи без изменений, сохраняя орфографию и слог автора, ибо они проливают свет на последние месяцы жизни человека, который так и остался для меня загадкой.
***
15 сентября 18** года. Тифлис.
Вот уже третий день я в Тифлисе. Духота невыносимая, и даже ночью город не остывает. Я снял комнату в доме армянского купца — приличную комнату с видом на горы, которые напоминают мне о прежних временах. О Бэле. О глупости молодости, которую почему-то принято называть страстью.
Сегодня встретил на базаре князя N., с которым мы когда-то служили вместе в крепости за Тереком. Он постарел, обрюзг и стал похож на свою лошадь — такую же унылую и разочарованную жизнью. Князь долго жал мне руку, говорил о том, как рад меня видеть, и приглашал на обед. Я отказался. Зачем мне общество человека, который ничего не может мне дать, кроме воспоминаний о том времени, когда я ещё надеялся найти в жизни какой-то смысл?
Впрочем, одно известие князя меня заинтересовало. Он рассказал, что Вера — да, та самая Вера — овдовела. Её муж, этот добрый и скучный человек, умер от апоплексического удара минувшей зимой. Теперь она живёт в Пятигорске, у родственников.
Пятигорск. Странно, как это название до сих пор отзывается во мне тупой болью. Там я убил Грушницкого. Там я потерял Веру. Там закончилась моя молодость.
Но что мне теперь до этого? Я еду в Персию, и какое мне дело до женщины, которая когда-то любила меня?
***
18 сентября.
Я всё ещё в Тифлисе. Мой отъезд откладывается из-за каких-то бюрократических проволочек. Чиновники здесь так же ленивы и бестолковы, как и везде в Российской империи.
Вчера вечером я долго не мог уснуть. Лежал на жёсткой кровати, слушал, как во дворе лает собака, и думал о Вере. Это было неожиданно и неприятно. Я полагал, что давно излечился от этой болезни. Ведь что такое любовь? Привычка, помноженная на самолюбие. Мы любим не человека, а собственное отражение в его глазах.
И всё же... Вера была единственной женщиной, которая понимала меня. Понимала — и всё равно любила. Это редкость. Большинство женщин любят то, что они выдумали, а не то, что есть на самом деле.
Я вспомнил, как она плакала, когда мы расставались. Как я скакал за её каретой, загнал коня и упал на землю, рыдая как ребёнок. Единственный раз в жизни я плакал по-настоящему. И что же? Через неделю я уже не помнил об этом.
Нет, это ложь. Я помнил. Помню до сих пор.
***
22 сентября.
Сегодня я принял решение. Вместо Персии я еду в Пятигорск. Не знаю зачем. Может быть, чтобы убедиться, что прошлое мертво. Может быть, чтобы ещё раз причинить боль себе и ей. А может быть... нет, об этом я не хочу думать.
Мой слуга, татарин Ахмет, смотрит на меня с удивлением. Он не понимает, зачем менять планы. Я и сам не понимаю. Но когда я понимал собственные поступки?
Человек — это загадка. Я всю жизнь разгадывал других людей, играл ими как пешками на шахматной доске. А себя самого так и не разгадал.
***
3 октября. Пятигорск.
Город не изменился. Те же горы, те же источники, те же праздные люди, приехавшие лечить свои воображаемые болезни. И тот же странный туман по утрам, который окутывает улицы и делает всё призрачным, нереальным.
Я остановился в гостинице, в той самой комнате, где жил когда-то Грушницкий. Это не суеверие — просто другие комнаты были заняты. Но признаюсь, когда я узнал, что это его бывшее жилище, что-то дрогнуло во мне. Я убил этого человека. Он был глуп, тщеславен и пуст — но он был живой человек. Теперь его нет, а я сижу на его месте и смотрю в его окно.
О Вере я пока ничего не узнал. Не хочу спрашивать — боюсь услышать ответ.
***
5 октября.
Сегодня я видел её.
Она шла по аллее с какой-то пожилой дамой, вероятно, компаньонкой. На ней было чёрное платье — траур ещё не окончен. Она похудела и побледнела, но всё так же красива той особенной красотой, которая не зависит от возраста и здоровья.
Она меня не заметила. Или сделала вид, что не заметила.
Я стоял за деревом как вор, как мальчишка, и сердце моё билось так, как не билось уже много лет. Это было унизительно и в то же время... живо. Да, это было живое чувство посреди той пустыни равнодушия, которой стала моя душа.
Что мне делать? Подойти к ней? Написать письмо? Или уехать, пока ещё не поздно?
Не знаю. Ничего не знаю.
***
7 октября.
Мы встретились. Случайно — если в этом мире вообще что-то бывает случайным.
Это произошло у Елизаветинского источника. Я пил воду — не потому что болен, а потому что нечем было занять руки. И вдруг услышал за спиной её голос:
— Григорий Александрович.
Я обернулся. Она стояла передо мной — бледная, с тёмными кругами под глазами, но прямая и спокойная. В её взгляде не было ни упрёка, ни гнева — только усталость. Бесконечная усталость человека, который слишком много страдал.
— Вера Николаевна, — ответил я и поклонился.
— Я знала, что вы здесь. Весь город об этом говорит.
— И вы не избежали встречи?
Она улыбнулась — той печальной улыбкой, которую я помнил.
— Зачем? Я давно перестала вас бояться, Григорий Александрович. И давно перестала надеяться.
Эти слова ударили меня больнее, чем любой упрёк. Я понял, что она говорит правду. Она действительно перестала надеяться. Я убил в ней надежду — так же верно, как убил Грушницкого.
— Можно ли нам поговорить? — спросил я. — Наедине?
Она колебалась. Потом кивнула.
— Приходите завтра в пять часов. Я живу в доме Ермоловых, на горе. Компаньонка будет у себя.
И ушла, не оглянувшись.
***
8 октября.
Я пришёл к ней ровно в пять. Она приняла меня в маленькой гостиной, обставленной просто и со вкусом. На столе стояли цветы — поздние астры, уже тронутые осенью.
Мы долго молчали. Потом она сказала:
— Зачем вы приехали?
— Не знаю, — честно ответил я. — Может быть, чтобы увидеть вас. Может быть, чтобы понять.
— Что понять?
— Себя.
Она покачала головой.
— Вы никогда себя не поймёте, Григорий Александрович. Вы слишком умны для этого. Ум — враг понимания. Он всё объясняет, всё оправдывает, но ничего не понимает.
— А что же понимает?
— Сердце. Но вы своё сердце давно заморозили.
Я хотел возразить, но она была права. Она всегда была права — в том, что касалось меня.
— Я любила вас, — продолжала она. — Любила больше жизни. Вы это знаете. И вы использовали мою любовь как игрушку. Нет, не возражайте — я не упрекаю. Вы такой, какой есть. Вы не могли иначе.
— А теперь? — спросил я. — Вы всё ещё...
Она прервала меня:
— Я не знаю. Сердце глупо. Оно не умеет забывать. Но я научилась жить без надежды. Это спокойнее.
— Вера...
— Не надо. — Она встала и подошла к окну. — Уезжайте, Григорий Александрович. Уезжайте в вашу Персию. Там вы найдёте новые развлечения, новых людей, которыми можно играть. А я... я доживу свой век здесь, в этом городе, где всё напоминает мне о прошлом. Может быть, это и есть моё наказание — или моё спасение.
Я подошёл к ней. Она не обернулась.
— Вера, — сказал я тихо, — а если я скажу, что устал?
— От чего?
— От всего. От игр. От скуки. От самого себя.
Она обернулась. В её глазах блеснули слёзы.
— Вы это уже говорили. Много раз. И каждый раз я верила. А потом...
— Я знаю. Я знаю, что не заслуживаю веры. Но это правда. Я действительно устал. И я приехал сюда не случайно. Я приехал, потому что вы — единственное, что у меня осталось.
Она молчала. Потом тихо сказала:
— Уходите. Пожалуйста. Мне нужно подумать.
Я ушёл.
***
10 октября.
Два дня я ждал. Она не присылала записки. Я не решался прийти сам — впервые в жизни я боялся услышать ответ.
Сегодня утром я получил письмо. Всего несколько строк:
«Приходите сегодня в семь. В.»
И я понял, что моя жизнь, возможно, ещё не окончена.
***
На этом записи обрываются. Из других источников мне известно, что Печорин действительно провёл в Пятигорске несколько месяцев. Что было между ним и Верой — неизвестно. Весной он всё-таки уехал в Персию и умер на обратном пути.
Максим Максимыч, отдавая мне эти бумаги, сказал:
— Странный был человек, ваше благородие. Всю жизнь искал счастья, а нашёл ли — бог весть. Может, и нашёл. Под конец. Кто ж его знает...
Я не стал спорить. Может быть, старик был прав. Может быть, Печорин действительно нашёл что-то перед смертью. Или, по крайней мере, перестал искать.
А это, возможно, и есть покой.


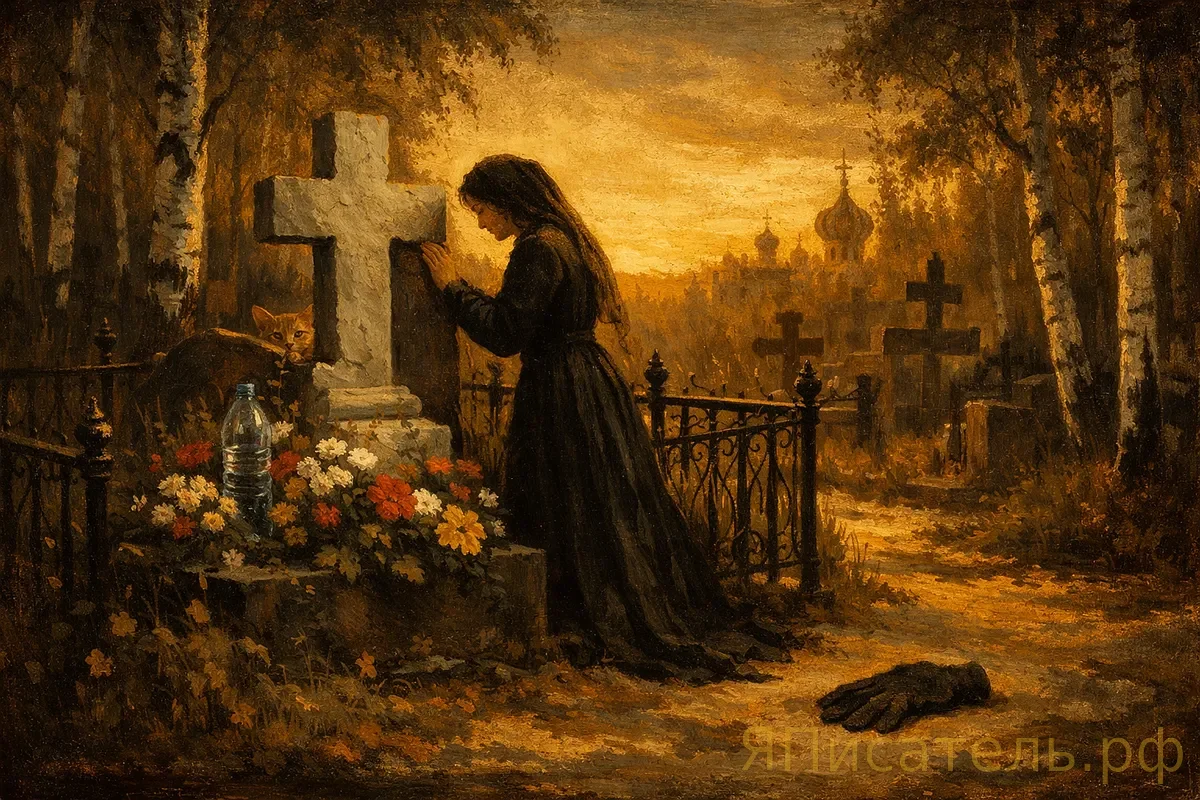















Загрузка комментариев...