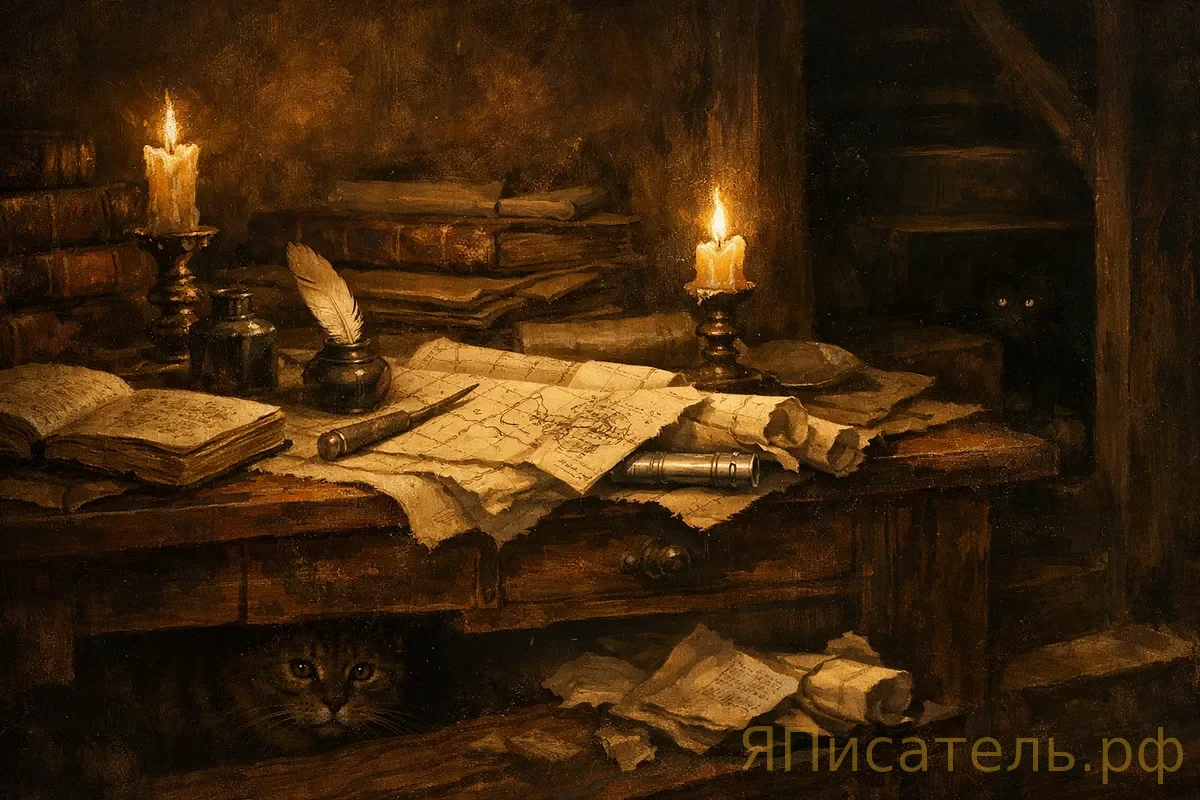Последнее лето Зинаиды: глава, которую не написал Тургенев
Творческое продолжение классики
Это художественная фантазия на тему произведения «Первая любовь» автора Иван Сергеевич Тургенев. Как бы мог продолжиться сюжет, если бы писатель решил его развить?
Оригинальный отрывок
Я узнал о смерти княгини Засекиной в тот же день. Мне сказали, что она скончалась... Но я был тогда ещё так молод, что смерть, хотя и тронула меня, не поразила; я даже стыдился того, что не чувствую себя более огорчённым. Я бродил по улицам и обдумывал свою будущность. Первая любовь моя — эта мучительная, сладкая, незабвенная любовь... Я стараюсь вспомнить её черты — и вижу только смутный образ, задёрнутый туманом.
Продолжение
Прошло ещё пять лет после кончины отца, и вот я очутился в Москве, в доме на Пречистенке, куда был зван на обед одним давнишним знакомым. Общество было обыкновенное, московское: две-три дамы не первой молодости, их мужья, отставной полковник с Георгием, молодой чиновник из министерства. Разговор шёл о пустяках — о скачках, о новой опере, о чьей-то свадьбе.
И вдруг я услышал имя, которое заставило меня вздрогнуть так сильно, что я расплескал вино. Хозяйка дома, Наталья Дмитриевна, рассказывая о каких-то петербургских новостях, упомянула Засекину.
— Какую Засекину? — спросил я, стараясь сохранить спокойствие, но голос мой, должно быть, изменился, потому что Наталья Дмитриевна взглянула на меня с любопытством.
— Княжну Засекину. То есть она давно уже не княжна, а госпожа Дольская. Вы разве не знали? Она замужем за Дольским, Павлом Петровичем, — знаете, тот, что служил по дипломатической части. Впрочем, они расстались, кажется. Или нет, не расстались, а живут врозь, — что, в сущности, одно и то же. Она теперь в Москве. Я видела её на прошлой неделе у Шаховских.
Я молчал. Сердце моё билось так, как не билось уже давно, — с тою бесполезною силой, с какою оно билось в то далёкое лето, когда мне было шестнадцать лет и весь мир заключался в одном лице, в одном голосе, в одной улыбке.
Зинаида. Зинаида Александровна. Она жива.
Мне говорили — или я сам решил, — что она умерла родами. Нет, постойте: отец умер, это я знал точно, я сам видел, как он менялся в лице, когда мы проехали мимо того дома... А Зинаида? Мне казалось, что кто-то рассказывал мне о её смерти, но теперь, силясь вспомнить, я не мог найти в памяти ничего определённого. Может быть, я сам придумал эту смерть, потому что она казалась мне единственным достойным финалом для существа столь необыкновенного? Мы ведь охотно хороним в воображении тех, кого любили: мертвые принадлежат нам безраздельно.
Я провёл дурную ночь. Воспоминания, которые я считал давно уснувшими, поднялись разом, как птицы, спугнутые выстрелом. Я видел флигель, акации, низенький забор. Я видел Лушина с его кислым лицом, Майданова, декламирующего стихи, Беловзорова с его глупой преданностью. Я видел отца на вороном коне. И я видел её — молодую, смеющуюся, жестокую, прекрасную, с тёмными кудрями и тёмными глазами, в которых сквозила насмешка, нежность и что-то ещё, чему я тогда не знал названия, а теперь знаю: это была тоска. Она тосковала, даже когда смеялась. Особенно когда смеялась.
На следующий день я поехал к Шаховским. Я сказал себе, что еду без определённой цели, — что мне просто хочется возобновить старое знакомство, — и я почти поверил этой лжи. Мы, люди, необыкновенно ловко обманываем самих себя; с посторонними это удаётся нам гораздо хуже.
У Шаховских был обычный вечер. Я вошёл в гостиную, раскланялся с хозяевами и обвёл комнату взглядом. Её не было. Я испытал одновременно облегчение и разочарование — два чувства, которые поразительно часто ходят рука об руку.
Я просидел у Шаховских часа полтора, выпил чаю, выслушал чей-то рассказ о поездке в Ниццу и уже собирался уезжать, когда дверь отворилась и вошла женщина.
Она была в чёрном платье, без украшений, и причёсана гладко, просто. Она была худа. Лицо её, некогда круглое и свежее, вытянулось и побледнело; у глаз легли мелкие морщинки, а рот, прежде полный и своенравный, сделался строгим и печальным. Но глаза — глаза были те же. Тёмные, блестящие, с тою быстрой и переменчивой жизнью, которая не угасает от времени, а только уходит вглубь.
Она узнала меня. Я увидел это по тому, как она слегка приостановилась на пороге, — движение почти незаметное, как тень облака, пробежавшая по лугу.
— Владимир Петрович? — сказала она, подходя. — Я вас помню. Вы были совсем мальчик.
Голос её стал ниже и глуше. В нём не было прежней звенящей лёгкости, но появилось нечто другое — теплота, которая бывает у осенних вечеров, когда солнце светит уже не жарко, но с какой-то особенной ласковостью.
— Я помню вас, Зинаида Александровна, — отвечал я.
Мы сели рядом. Я смотрел на неё и не мог найти в себе того мучительного чувства, которое когда-то наполняло меня целиком: ни той восторженной преданности, ни того жгучего стыда, ни той ревности, от которой темнело в глазах. Всё это прошло. Передо мною сидела немолодая женщина, уставшая от жизни, — и я был немолодой мужчина, много видевший и немного узнавший. И всё-таки, всё-таки — что-то оставалось. Как запах сирени в комнате, из которой давно убрали цветы.
— Расскажите мне о себе, — попросила Зинаида.
И я стал рассказывать. Я говорил о своих путешествиях, о Германии и Италии, о том, как жил в Риме и бродил по Кампанье, о людях, которых встречал. Я не упоминал отца и не упоминал того лета. Она слушала внимательно, наклонив голову, и время от времени кивала.
— А вы? — спросил я наконец.
Она помолчала.
— Я? — Она усмехнулась, и в этой усмешке мелькнуло что-то прежнее. — Я жила. Это труднее, чем кажется. Я вышла замуж — неудачно. Я потеряла ребёнка. Я жила в Петербурге, потом за границей, потом опять в Петербурге. Потом я устала и приехала в Москву. Вот, собственно, и всё.
Она говорила легко, как о пустяках, но я слышал за этой лёгкостью то, что она не говорила: годы одиночества, обид, разочарований, — всю ту глухую, невидимую работу страдания, которую человеческое лицо скрывает тем успешнее, чем тяжелее ей поддаётся.
— Зинаида Александровна, — сказал я, и сам не знаю, что заставило меня произнести эти слова, — я должен вам сказать... Я вас любил. Тогда, в то лето. Я был мальчик, и я любил вас так, как потом уже никого не любил.
Она посмотрела на меня долгим, тихим взглядом.
— Я знаю, — сказала она. — Я всегда знала. Вы были единственный из них всех, кто любил меня бескорыстно. Лушин меня жалел, Беловзоров хотел меня иметь, Майданов — воспевать. А вы — просто любили. И я была с вами жестока. Простите меня.
— Мне нечего прощать, — сказал я, и это была правда.
Мы замолчали. В гостиной кто-то играл на фортепиано — плохо, сбиваясь, но мелодия была знакомая, — кажется, Шуберт. За окнами московский вечер разливался над крышами, фиолетовый и тихий.
— Знаете, что я поняла? — сказала Зинаида, и голос её стал совсем тихим. — Любовь — это не то, что мы о ней думаем в молодости. Мы думаем, что это — огонь, буря, сумасшествие. А это — привычка быть нежным. Ничего больше. Самая простая, самая трудная вещь на свете.
Я не ответил. Я думал о своём отце, который бил её хлыстом по руке, — и она целовала этот рубец. Что это было? Любовь? Безумие? Я не знал тогда. Не знаю и теперь.
Мы расстались в тот вечер спокойно и просто. Она протянула мне руку — худую, в перчатке, — и я пожал её. Мы не условились о новой встрече. Мы оба понимали, что эта встреча была нужна — и что она была последней.
Я вышел на улицу. Москва лежала передо мной в огнях и тенях, живая, шумная, равнодушная. Извозчик дремал на козлах; лошадь его переступала с ноги на ногу и встряхивала головой, звеня бубенцами.
Я пошёл пешком. Мне хотелось идти долго, без цели, — чувствовать воздух на лице, слышать свои шаги. Мне было грустно, но грусть эта была светлая и лёгкая, как лёгок бывает первый снег.
Первая любовь. Она не умирает. Она просто становится тишиной, из которой мы потом всю жизнь слушаем что-то, — и никогда не можем расслышать до конца.
Вставьте этот код в HTML вашего сайта для встраивания контента.