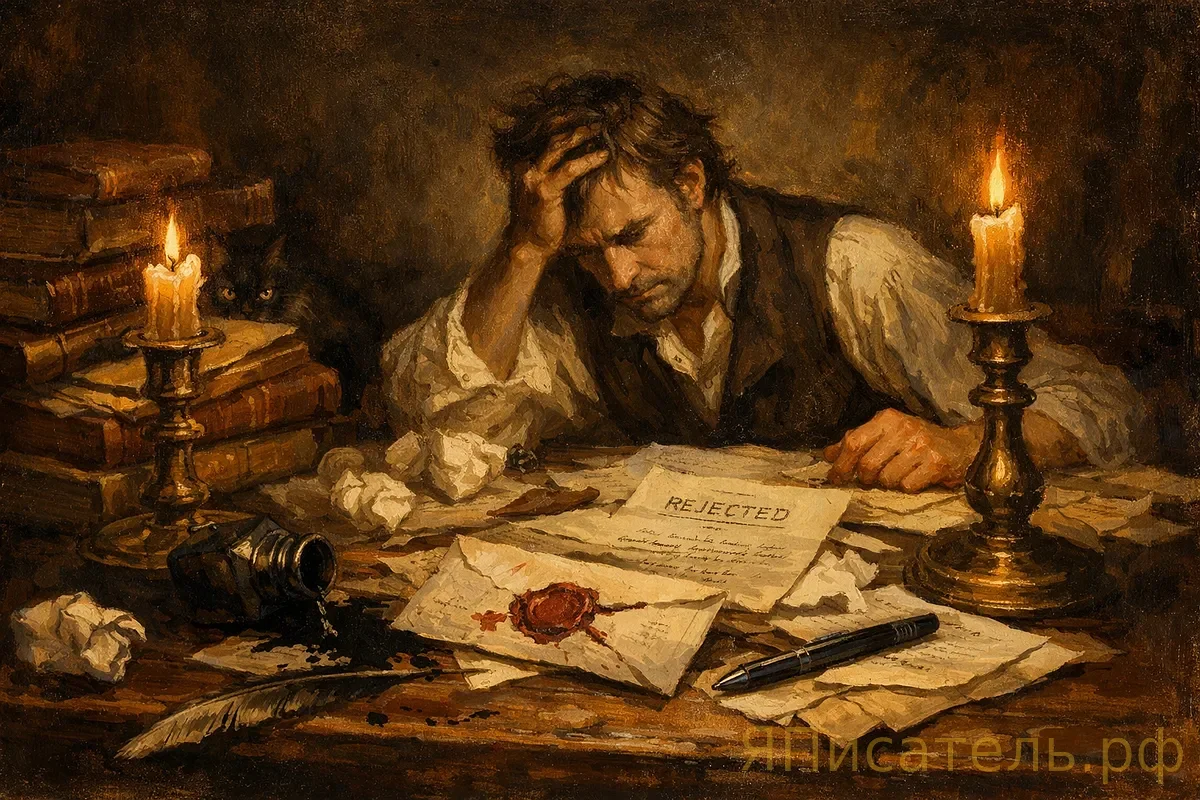ЯПисатель.рф
ЯПисатель.рф
Дворянское гнездо: Последняя встреча у монастырских стен
Creative continuation of a classic
This is an artistic fantasy inspired by «Дворянское гнездо» by Иван Сергеевич Тургенев. How might the story have continued if the author had decided to extend it?
Original excerpt
И Лаврецкий имел право быть довольным: он сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян.
Continuation
Прошло восемь лет с того дня, когда Лаврецкий в последний раз видел Лизу Калитину за решёткой монастырского окна. Жизнь его текла ровно и бесцветно, как осенняя река под серым небом. Он жил в деревне, занимался хозяйством, читал, иногда выезжал к соседям, но везде носил с собою ту тихую, неизбывную печаль, которая стала его вечной спутницей.
Однажды осенним утром, когда туман ещё стелился над полями и первые заморозки серебрили траву, к усадьбе подъехала почтовая карета. Лаврецкий, сидевший за чаем, услышал шум и вышел на крыльцо. Из кареты, опираясь на руку кучера, вышел пожилой господин в дорожном платье — и Лаврецкий узнал в нём Михалевича.
— Фёдор! — воскликнул тот, раскрывая объятия. — Наконец-то я добрался до твоей берлоги!
Они обнялись. Михалевич постарел: волосы его поредели и поседели, но в глазах горел всё тот же неугомонный огонь.
— Ты совсем отшельником стал, — говорил он, входя в дом и оглядываясь с любопытством. — Пишешь ли? Думаешь ли? Или так и зарылся в своих полях?
— Живу, — отвечал Лаврецкий с тихой улыбкой. — Просто живу.
Михалевич покачал головой.
— Это не жизнь, а прозябание! Человек должен гореть, стремиться, действовать! Впрочем... — он вдруг замолчал и пристально посмотрел на друга. — Впрочем, я приехал не затем, чтобы читать тебе нотации. У меня есть известие.
Лаврецкий почувствовал, как что-то дрогнуло в груди.
— Какое известие?
Михалевич помедлил.
— Ты знаешь, что я был в городе О***? Проездом. И заезжал в монастырь.
Лаврецкий побледнел и опустился в кресло.
— Она больна, — продолжал Михалевич тихо. — Очень больна. Настоятельница сама просила меня... передать тебе.
— Что передать?
— Что если ты хочешь... если ты желаешь её видеть... то нужно поспешить.
Долгое молчание повисло в комнате. За окном каркнула ворона, и этот резкий звук показался странно громким в наступившей тишине.
— Когда? — спросил наконец Лаврецкий.
— Чем скорее, тем лучше.
Он выехал в тот же день. Дорога заняла трое суток — осенние дожди размыли пути, и лошади вязли в грязи. Лаврецкий почти не спал, не ел, не замечал ничего вокруг. Перед его мысленным взором стояло одно только лицо — то молодое, светлое лицо, которое он помнил все эти годы, и которое теперь, быть может, угасало в тёмной монастырской келье.
Монастырь показался на рассвете четвёртого дня. Белые стены его выступали из тумана, как видение, как сон. Колокол звонил к заутрене, и этот тихий, протяжный звон разносился далеко окрест.
Настоятельница, сухонькая старушка с проницательными глазами, приняла его сразу.
— Вы — Лаврецкий? — спросила она.
— Да.
— Сестра Елисавета просила о вас. Идёмте.
Они шли длинными коридорами, и шаги их гулко отдавались под сводами. Настоятельница остановилась у низкой двери.
— Она очень слаба, — сказала она. — Не утомляйте её.
И отворила дверь.
Келья была маленькая, почти пустая — узкая кровать, стол, распятие на стене. У окна, в деревянном кресле, сидела женщина в чёрном одеянии. Она повернула голову на звук двери — и Лаврецкий узнал Лизу.
Она похудела, постарела — но всё те же глаза, те же черты, та же тихая кротость во всём облике. Только теперь к этой кротости примешивалось что-то иное — какое-то странное, неземное спокойствие.
— Фёдор Иванович, — произнесла она слабым голосом. — Вы приехали.
Он хотел подойти к ней, упасть на колени, сказать всё, что копилось в душе все эти годы — но не мог. Стоял как вкопанный, и только смотрел на неё.
— Садитесь, — сказала она, указывая на табурет у стены. — Садитесь и не смотрите на меня так. Я рада, что вы приехали.
Он сел. Руки его дрожали.
— Я должна была видеть вас, — продолжала она тихо. — Прежде чем... прежде чем уйти. Мне нужно сказать вам одну вещь.
— Лизавета Михайловна... — начал он, но она остановила его движением руки.
— Не надо. Выслушайте меня. Я много думала о нас — обо всём, что было. И я хочу, чтобы вы знали: я ни о чём не жалею. Ни о чём. Тот путь, который я выбрала, был единственно возможным для меня. Но это не значит... — она замолчала, и в глазах её блеснуло что-то похожее на слёзы, — это не значит, что я не помню. Что я забыла.
Лаврецкий закрыл лицо руками.
— Всё это время, — проговорил он глухо, — все эти годы... я жил только памятью о вас. Только ею одной.
— Я знаю, — отвечала она. — И потому я позвала вас. Чтобы сказать: не надо. Не надо хоронить себя заживо. Вы ещё молоды...
— Молод? — он горько усмехнулся. — Мне сорок семь лет, Лизавета Михайловна. Я старик.
— Не телом — душой. Душа ваша ещё молода, я это чувствую. И она не должна угаснуть вместе со мной.
Она протянула к нему руку — худую, бледную, почти прозрачную. Он взял эту руку и прижал к губам.
— Лиза... — прошептал он, и это был первый раз за все эти годы, когда он назвал её так просто, по имени. — Лиза, простите меня. За всё простите.
— Прощать нечего, — отвечала она. — Мы оба делали то, что должны были делать. И если это была вина — она искуплена. Давно искуплена.
Они молчали. За окном светлело — туман рассеивался, и первые лучи солнца пробивались сквозь стекло, падая на каменный пол.
— Расскажите мне, — попросила она вдруг. — Расскажите, как вы жили все эти годы. Что делали. О чём думали.
И он начал рассказывать — сначала медленно, сбивчиво, потом всё свободнее. Рассказывал о своей деревенской жизни, о крестьянах, о полях и лесах, о книгах, которые читал, о мыслях, которые приходили ему в голову долгими зимними вечерами. Она слушала, полузакрыв глаза, и лёгкая улыбка трогала её бледные губы.
— Вот видите, — сказала она, когда он умолк. — Вы жили. Жили по-настоящему. А я... я только молилась.
— Разве это не жизнь?
— Это другая жизнь. Может быть, лучшая — кто знает? Но другая.
Она закашлялась, и он с тревогой наклонился к ней.
— Вам плохо? Позвать кого-нибудь?
— Нет, нет. Это ничего. Я устала немного. Но не уходите ещё. Побудьте со мной.
Он остался. Сидел рядом с нею, держа её руку в своей, и смотрел, как угасает осенний день за маленьким окном. Колокол снова зазвонил — теперь к вечерне. Лиза пошевелилась.
— Мне пора, — сказала она. — Сёстры ждут.
— Вы пойдёте?.. В таком состоянии?
— Я всегда хожу. Пока могу — буду ходить.
Она попыталась встать, но силы изменили ей. Лаврецкий подхватил её, и она на мгновение прижалась к его груди — так легко, так невесомо, как осенний лист.
— Спасибо, — прошептала она. — Спасибо, что приехали. Теперь я могу...
Она не договорила, но он понял.
— Лиза, — сказал он, и голос его дрогнул. — Лиза, я...
— Не надо, — перебила она. — Не надо говорить. Я знаю. И я тоже... всегда.
Вошла монахиня — молодая, с испуганным лицом.
— Матушка настоятельница просит...
— Да, да, иду.
Лиза выпрямилась, и Лаврецкий увидел, как собралась вся её воля, вся её сила — чтобы сделать эти несколько шагов к двери.
— Прощайте, Фёдор Иванович, — сказала она, обернувшись. — Живите. И помните: я буду молиться за вас. Всегда.
И она вышла, опираясь на руку молодой монахини.
Лаврецкий остался один. Долго стоял он посреди пустой кельи, глядя на закрытую дверь. Потом медленно вышел, прошёл длинными коридорами, пересёк монастырский двор. У ворот остановился и обернулся.
Из маленького окошка церкви падал свет — там шла служба. И откуда-то сверху, с колокольни, снова поплыл тихий, протяжный звон.
Он ехал обратно той же дорогой, но теперь не замечал ни дождя, ни грязи, ни усталости. В душе его было странное чувство — не боль, не печаль, но какое-то тихое, светлое смирение. Как будто что-то, долго стоявшее на пути, наконец отошло в сторону, и впереди открылась дорога — неизвестная, но уже не страшная.
Через неделю он узнал, что Лизы не стало. Она умерла тихо, во сне, на третий день после его посещения. Настоятельница написала ему коротко: «Последние слова её были о вас».
Он не плакал. Вышел в сад, долго бродил по аллеям, где облетали последние листья. Потом вернулся в дом, сел за стол и начал писать. Писал всю ночь, всё утро — воспоминания, мысли, какие-то отрывки, которые сами просились на бумагу. Это было начало его записок — тех самых, которые впоследствии нашли в его бумагах и которые так никогда не были напечатаны.
Он прожил ещё двенадцать лет. Жил тихо, занимался хозяйством, много читал, помогал крестьянам. Изредка выезжал в город — навестить Марью Дмитриевну, которая доживала свой век в маленьком домике на окраине, или Леночку, давно уже вышедшую замуж за добропорядочного чиновника и народившую ему четверых детей.
О Варваре Павловне он ничего не слышал и не хотел слышать. Говорили, что она жила в Париже, потом в Ницце, потом где-то ещё — но всё это было так далеко от него, так безразлично ему, что он даже не пытался узнать подробности.
Умер он зимой, в самые крещенские морозы. Умер так же тихо, как жил — ночью, во сне, один в своей большой опустевшей усадьбе. Похоронили его рядом с матерью, в ограде сельской церкви. На похоронах было много народу — пришли крестьяне из окрестных деревень, приехали какие-то дальние родственники, которых он и не знал.
А весной, когда сошёл снег и зазеленели первые побеги, на его могиле расцвёл куст сирени — никто не помнил, чтобы его сажали. Крестьяне говорили, что это знак, что душа барина нашла покой. Может быть, они были правы.
Paste this code into your website HTML to embed this content.