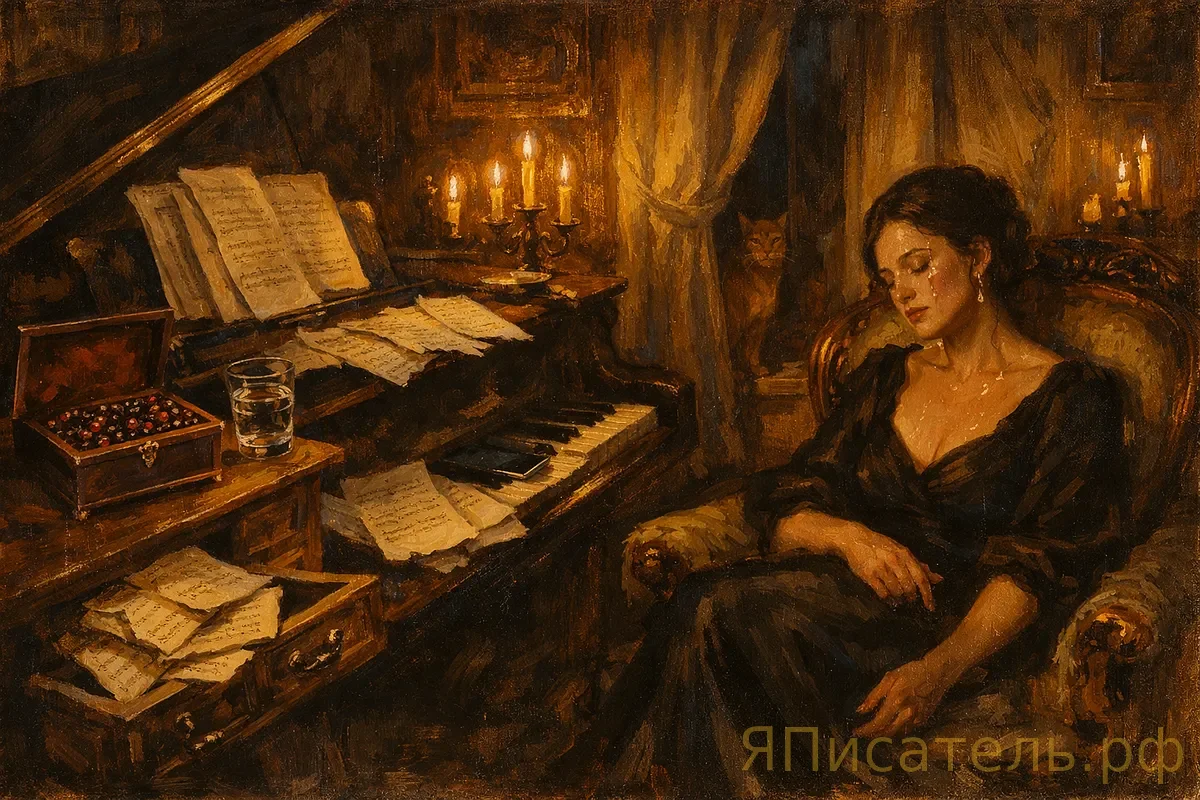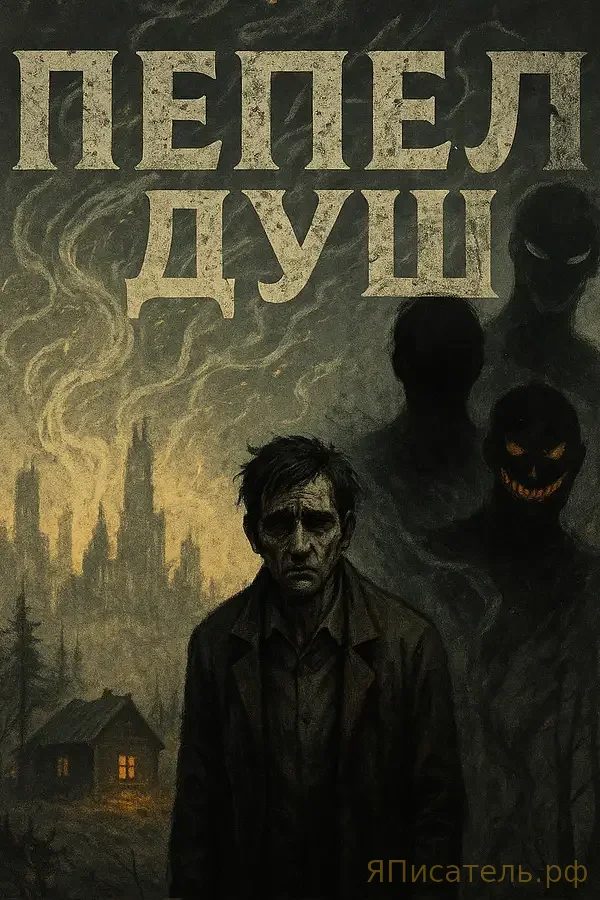Бедные люди: Последнее письмо, которое не дошло — Глава, которую не дописал Достоевский
Creative continuation of a classic
This is an artistic fantasy inspired by «Бедные люди» by Фёдор Михайлович Достоевский. How might the story have continued if the author had decided to extend it?
Original excerpt
«Маточка, Варенька, голубчик мой, бесценная моя! Вас увозят, вы едете! Да лучше бы сердце мне из груди вырвали, чем вас у меня отнимали! Как же вы это так! Вот вы плачете и вы едете! Стало быть, вам не хочется ехать; стало быть, вас насильно увозят, стало быть, вам жалко меня, стало быть, вы меня любите! Маточка, голубчик мой, родная моя, ведь я вас люблю, как свет Божий, как дочку мою единую. Голубчик мой! Родная моя, маточка!..»
Continuation
Сентября 30-го.
Маточка, Варенька моя! Вот уж третий день как отправил вам письмо моё последнее, а ответа нет, и не будет, я знаю. Вы уехали. Карета увезла вас по Московскому тракту, а я стоял у окна и смотрел, как пыль оседала на мостовую, — и всё глядел, хотя и глядеть-то уж не на что было. Пыль осела, а я всё стоял.
Федора заходила ко мне сегодня утром. Принесла щей. Я не ел. Она положила на стол и ушла, ничего не сказав. Добрая она женщина, Федора; она понимает. Она ведь тоже плакала тогда, когда вы садились в карету, — я видел из окна. А Быков ваш стоял рядом, и всё торопил, и перчатку натягивал, и смотрел по сторонам — будто стыдился чего-то, будто ждал, что кто-нибудь помешает, и торопился оттого, что боялся. Я было хотел выбежать, но ноги не послушались. И что бы я сказал? Что?
Пишу вам это письмо, а отправлять-то и некуда. Адреса вашего степного имения не знаю. Может, Федора знает, — но я не спрашиваю. Я пишу, потому что не могу не писать. Привычка это, маточка. Вы три года были рядом, через двор, и каждый день я садился к этому столу и писал вам, и ждал ответа, и жил этим ожиданием, — а теперь писать некуда, а я всё пишу. Как собачка, которую хозяин бросил, а она сидит у двери и ждёт. Вот и я — собачка.
На службе сегодня Его Превосходительство изволили спросить, здоров ли я. «Что-то вы, Девушкин, нехороши», — сказали они. Я отвечал, что здоров совершенно, что благодарю покорнейше за участие. Но руки дрожали, и я три раза переписывал одну бумагу, и всё с ошибками. Емельян Иванович, сосед мой по столу, поглядывал и молчал. Он человек неглупый, Емельян Иванович; он, верно, понял.
А вечером, как вернулся домой, сел к окну. Окно-то — на ваш двор выходит. То есть на бывший ваш двор. Теперь там другие жильцы, — хозяйка сказала, что какой-то чиновник с семейством, с детьми. Двое детей, и они бегали по двору, и кричали, и смеялись. А я смотрел на ваше окно и видел, что занавески другие — жёлтые, с цветочками, — а у вас были белые, простые, чистые. И от этих жёлтых занавесок стало мне так горько, что я заплакал. Сам не знаю отчего — от занавесок. Глупо это, я знаю.
***
Октября 4-го.
Опять пишу вам, маточка. Четвёртое письмо уже — а отправить ни одного не могу. Лежат они стопкой у меня на столе, перевязанные ленточкой. Ленточку эту я нашёл у себя в кармане — она от того пакетика с леденцами, что вы мне подарили на Пасху. Помните? Я тогда сказал, что мне сладкого нельзя, что зубы, что доктор запретил, — а вы засмеялись и сказали: «Макар Алексеевич, вы как ребёнок!» И я съел все леденцы в тот же вечер, хотя зуб потом болел две недели.
Но я не о том. Я хотел написать о том, что со мной происходит, — а сам не могу понять, что именно. Вот хожу по улицам — и всё как прежде: извозчики кричат, торговки бранятся, чиновники спешат, — а я иду и не узнаю ничего. Как будто город тот же, а я — другой. Всё сдвинулось куда-то, и я сдвинулся, и ничего не стоит на своём месте.
Вчера проходил мимо кондитерской — той самой, на углу, где я вам купил однажды пирожное. Остановился, стал в окно глядеть, — а там, за стеклом, сидела барышня. Молоденькая, в голубом капоте, и читала книжку. И так мне показалось на одно мгновение — на одно только мгновение, маточка! — что это вы. Сердце так и ёкнуло. Но увидел — нет, не вы: лицо другое, волосы темнее. Но что-то было — в повороте головы, в том, как она страницу перевернула. И я стоял у этого окна, как дурак, минут десять, пока городовой не покосился.
А ночью не спал. Лежал и думал: зачем я вам тогда не сказал? Не о любви — нет, куда мне! Я старик, я нищий, я титулярный советник с протёртыми локтями. Но я мог сказать... Нет, не мог. Потому что говорить — значит назвать, а назвать — значит разрушить. А у нас с вами было такое, что назвать нельзя, можно только чувствовать.
***
Октября 11-го.
Маточка, Варенька! Сегодня случилось нечто удивительное. Пришёл домой со службы, а хозяйка говорит: «Вам письмо, Макар Алексеевич». Я так и обмер. Схватил — руки трясутся, — гляжу на конверт. Почерк незнакомый, казённый. Вскрыл — а там от Быкова управляющего. Пишет, что госпожа Быкова просила переслать адрес поместья. Вы, стало быть, помните обо мне!
И вот сижу перед стопкой ненаправленных писем и думаю: отправлять ли? Перечитал — стыдно стало. Ноющий, жалкий, слезливый старик. Напишу новое. Бодрое. Весёлое. Напишу, что у меня всё хорошо...
Нет. Не могу. Не умею я врать вам, Варенька. Вот правда: мне плохо. Потому что прежде, когда бывало худо, я знал, что завтра напишу вам, и вы ответите. А теперь — кому писать?
Посылаю все пять писем разом. Пусть знаете всё. Мне бы только знать, что вам хорошо. Быков не обижает ли? Тепло ли в доме? Есть ли у вас книги?
***
Октября 25-го.
Варенька! Варенька! Ответили! Вы ответили! Федора принесла мне ваше письмо утром — я ещё в постели был, — и я вскочил, и даже не оделся, и читал у окна при свете пасмурного утра, и руки тряслись, и строчки прыгали.
Вы пишете, что здоровы. Что Быков уехал в Москву и вы одна в доме. Что сад большой, и клёны пожелтели, и по утрам туман над прудом. Что скучаете. Что просите писать.
Просите писать! Маточка! Да ведь я для того только и живу! Вот сейчас сяду и напишу вам такое письмо, такое длинное, обстоятельное, подробное — обо всём: и о службе, и о погоде, и о соседях, и о том, как Федорин кот поймал мышь, и о том, как на Невском новый фонарь поставили, газовый, — всё-всё опишу!
Варенька, я думал, что умер. Три недели ходил как мёртвый. А сейчас — живой. От одного вашего письма — живой. Вот какая сила в вашем слове.
Я всё понимаю. Вы — там, а я — здесь. Вы замужем. Ничего не будет и не может быть. Я не герой из книжки. Я старый чиновник, который переписывает бумаги. Но мне и не нужно ничего, кроме того, что есть: кроме ваших писем, кроме знания, что вы есть, что вы живы, что вы иногда думаете обо мне.
Вот, Варенька, какие мы с вами бедные люди. Бедные — а всё-таки люди.
Ваш, навсегда ваш,
Макар Девушкин.
P.S. Книжку «Повести Белкина» посылаю вам. Издание хорошее, с виньеткой. Я, правда, опять без сахару остался, — но это ничего, это даже полезно. Доктор говорил, что сахар вреден. Вот видите, как всё хорошо устраивается!
Paste this code into your website HTML to embed this content.