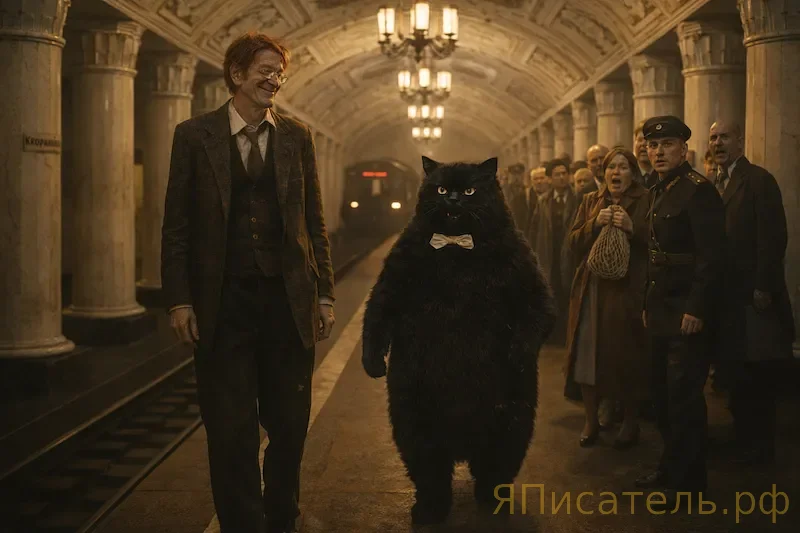ЯПисатель.рф
ЯПисатель.рф
Братья Карамазовы: Тринадцатая книга — Искушение Алёши
经典作品的创意续写
这是受Фёдор Михайлович Достоевский的《Братья Карамазовы》启发的艺术幻想。如果作者决定延续故事,情节会如何发展?
原文摘录
«Карамазов! — крикнул Коля, — неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мёртвых, и оживём, и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку?» — «Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу всё, что было», — ответил Алёша, полусмеясь, полу в восторге. — «Ах, как это будет хорошо!» — вырвалось у Коли. — «Ну, а теперь кончим речи и пойдёмте на его поминки. Не смущайтесь, что блины будем есть. Это ведь старинное, вечное, и тут есть хорошее», — засмеялся Алёша. — «Ну пойдёмте же! Вот мы теперь и идём рука в руку». — «И вечно так, всю жизнь рука в руку! Ура Карамазову!» — ещё раз восторженно подхватил Коля, и ещё раз все мальчики подхватили его восклицание.
续写
Прошёл год после похорон Илюшечки. Алёша Карамазов стоял у окна монастырской кельи, глядя на первый снег, укрывавший Скотопригоньевск белым саваном. Мальчики — те самые мальчики, которым он говорил о воскресении и о камне Илюшечки — выросли, разъехались, и только Коля Красоткин изредка присылал письма из Петербурга, полные прежней горячности и новых, социалистических идей.
В дверь постучали. Алёша обернулся, и сердце его дрогнуло: на пороге стоял Иван. Брат был худ, бледен, с запавшими глазами, в которых горел нездоровый огонь — тот самый огонь, который Алёша видел в них накануне суда над Митей.
— Здравствуй, Алёша, — произнёс Иван глухо. — Я пришёл... Я должен был прийти.
Он вошёл, не дожидаясь приглашения, сел на узкую монашескую койку и долго молчал, уставившись в одну точку. Алёша не торопил его — он знал, что Иван заговорит, когда будет готов. Так было всегда между ними: слова приходили сами, когда наступало их время.
— Я видел его снова, — наконец произнёс Иван. — Чёрта.
Алёша вздрогнул, но лицо его осталось спокойным.
— Ты был болен, Иван. Горячка...
— Нет! — Иван вскочил, и глаза его заблестели лихорадочно. — Не говори мне о горячке! Я знаю, что видел. Он приходит ко мне каждую ночь. Садится вот так же, как я сейчас, и говорит, говорит... Он говорит мне такие вещи, Алёша, такие вещи о мире, о Боге, о человеке, что я... — он осёкся и закрыл лицо руками.
Алёша подошёл к брату и положил руку ему на плечо. Он чувствовал, как дрожит это худое, измождённое тело, как бьётся под рёбрами сердце — быстро, неровно, словно испуганная птица.
— Что он говорит тебе? — тихо спросил Алёша.
Иван поднял голову. В глазах его стояли слёзы — он, Иван Фёдорович Карамазов, гордец и атеист, плакал, как ребёнок.
— Он говорит, что Митя невиновен. Что я всегда это знал. Что моё молчание — хуже любого преступления, потому что я мог спасти и не спас. И он смеётся, Алёша, смеётся так, что я готов разбить себе голову об стену, лишь бы не слышать этого смеха!
***
Они проговорили до глубокой ночи. Алёша слушал брата, и чем дольше слушал, тем яснее понимал: Иван стоит на краю пропасти. Той самой пропасти, в которую когда-то заглянул их отец — и не смог отвернуться.
— Ты помнишь нашу беседу о слезинке ребёнка? — спросил вдруг Иван. — Я говорил тогда, что не принимаю Божьего мира, если в его основании лежит хоть одна детская слеза. Помнишь?
— Помню, — кивнул Алёша.
— Так вот, — Иван усмехнулся горько, — теперь я понимаю, что был глупцом. Не Божий мир виноват в слезах детей — виноваты мы. Люди. Я. Мой бунт был бунтом гордыни, Алёша. Я хотел быть выше Бога, хотел судить Его — а сам не смог даже спасти собственного брата.
— Митя жив, — мягко возразил Алёша. — Он на каторге, но он жив. И Грушенька с ним.
— Жив! — Иван вскочил снова и заходил по келье. — Жив, да! В рудниках, в кандалах, среди убийц и воров! И это — жизнь? Это — справедливость? А ведь я мог... Я знал, Алёша! Знал, кто убил отца! Смердяков говорил мне, намекал, а я... я слушал и молчал, потому что в глубине души — о, как это страшно признать! — в глубине души я хотел этого. Хотел, чтобы старик умер. И он умер.
Алёша молчал. Он знал, что любые слова утешения сейчас будут ложью, а Иван — из всех людей — менее всего нуждался во лжи.
— Я приехал попрощаться, — сказал вдруг Иван тихо. — Завтра я еду в Сибирь. К Мите.
— На каторгу? — изумился Алёша.
— Да. Я буду жить там, рядом с острогом. Буду делать всё, что в моих силах, чтобы облегчить его участь. Это не искупление — я знаю, что искупления нет. Но это... это единственное, что я могу сделать.
Он остановился у окна и долго смотрел на падающий снег.
— Знаешь, что сказал мне чёрт в последний раз? — спросил Иван, не оборачиваясь. — Он сказал: «Ты будешь искать Бога всю жизнь и не найдёшь. Но в поисках своих ты станешь человеком». Каково, а? Даже дьявол признаёт, что человечность выше безбожия.
***
На следующее утро Алёша провожал брата на станцию. Шёл густой снег, засыпая следы прохожих, превращая Скотопригоньевск в белое безмолвие. Иван стоял на подножке вагона, уже готовый войти внутрь, когда вдруг обернулся.
— Алёша, — сказал он, — я хочу спросить тебя. Ты веришь? Веришь по-настоящему, всем сердцем?
Алёша посмотрел на брата долгим, ясным взглядом.
— Я верю, Иван. Но не так, как верят монахи, не так, как учил старец Зосима. Я верю в человека. Верю, что в каждом из нас есть искра Божия, и никакая тьма не способна её погасить. Даже в тебе, брат. Особенно — в тебе.
Иван криво усмехнулся.
— В убийце? В том, кто желал смерти собственному отцу?
— В человеке, который едет на край света, чтобы быть рядом с братом. В человеке, который всю жизнь искал правду — и нашёл её не в книгах, не в идеях, а в собственном сердце. Это и есть вера, Иван. Единственная настоящая вера.
Поезд дал свисток. Иван шагнул в вагон, но в последний момент обернулся снова.
— Мы увидимся, Алёша?
— Увидимся, — твёрдо ответил Алёша. — Я приеду к вам весной. И мы все будем вместе: ты, я и Митя. Как тогда, в детстве, помнишь? Когда мать ещё была жива, и мы играли в саду...
Иван не ответил. Двери вагона закрылись, поезд тронулся, и Алёша долго стоял на платформе, глядя вслед уходящему составу. Снег всё падал и падал, укрывая землю, скрывая следы, делая мир чистым и новым — таким, каким он был в первый день творения.
***
Вечером того же дня Алёша сидел в трактире на окраине города. Он приехал сюда не случайно: накануне получил записку от человека, которого меньше всего ожидал увидеть. Ракитин — тот самый Ракитин, семинарист и циник, который когда-то пытался соблазнить его к Грушеньке, — просил о встрече.
Ракитин вошёл, отряхивая снег с воротника поношенного пальто. Он изменился за этот год: располнел, обрюзг, в глазах появилось что-то загнанное, затравленное.
— Ну что, святой человек, — сказал он, садясь напротив Алёши, — не ожидал? Я теперь в Петербурге живу, статейки пишу для газет. Но приехал сюда по делу. По важному делу.
Он оглянулся воровато, наклонился к Алёше и зашептал:
— Я знаю, кто на самом деле убил вашего отца. И это не Смердяков.
Алёша почувствовал, как холодеет внутри.
— Что ты говоришь?
— То, что слышишь. Смердяков был орудием, марионеткой. А кукловод... — Ракитин усмехнулся криво. — Кукловод сидит сейчас в Петербурге, в тёплом кабинете, и посмеивается над всеми нами.
— Кто? — голос Алёши дрогнул.
— Не здесь, — Ракитин покачал головой. — Не сейчас. Приезжай в Петербург, там всё расскажу. И привези с собой деньги — много денег. Эта правда стоит дорого, Алексей Фёдорович. Очень дорого.
Он встал, накинул пальто и направился к выходу. У двери обернулся:
— И ещё, Карамазов. Передай брату своему, Ивану, пусть не торопится на каторгу. Может статься, что Митю скоро освободят. А может статься — совсем наоборот...
Дверь хлопнула, и Ракитин исчез в снежной круговерти.
***
Алёша просидел в трактире до закрытия. Мысли его путались, сердце сжималось от тревоги. Кто? Кто мог стоять за смертью отца? Неужели есть ещё какая-то тайна, ещё какая-то ложь, которая отравляет их семью?
Он вышел на улицу. Снег прекратился, и над городом повисла огромная луна — холодная, равнодушная, вечная. Алёша поднял глаза к небу и вдруг вспомнил слова старца Зосимы, сказанные ему перед смертью: «Выйдешь из этих стен, а в миру пребудешь как инок. Много будешь иметь противников, но и враги твои будут любить тебя. Много несчастий принесёт тебе жизнь, но ими-то ты и счастлив будешь».
— Счастлив, — прошептал Алёша. — Счастлив несчастьями...
Он медленно пошёл по пустой улице, и следы его тут же заносило свежим снегом. Позади оставался Скотопригоньевск с его тайнами и грехами; впереди ждал Петербург, и Сибирь, и вся огромная Россия. И где-то там, за горизонтом, за тысячами вёрст заснеженных дорог, ждали его братья — Иван и Митя, два грешника, два страдальца, два человека, которых он любил больше жизни.
«Мы все связаны, — думал Алёша, — связаны кровью и грехом, виной и искуплением. И пока хоть один из нас жив — будет жить и надежда. На прощение, на спасение, на тот последний день, когда все слёзы будут отёрты и все раны — исцелены».
Он шёл, и луна освещала его путь, и где-то вдали, за городскими воротами, пел одинокий колокол — тихо, печально, но неумолчно, как само сердце этой странной, грешной, святой земли.
将此代码粘贴到您网站的HTML中以嵌入此内容。