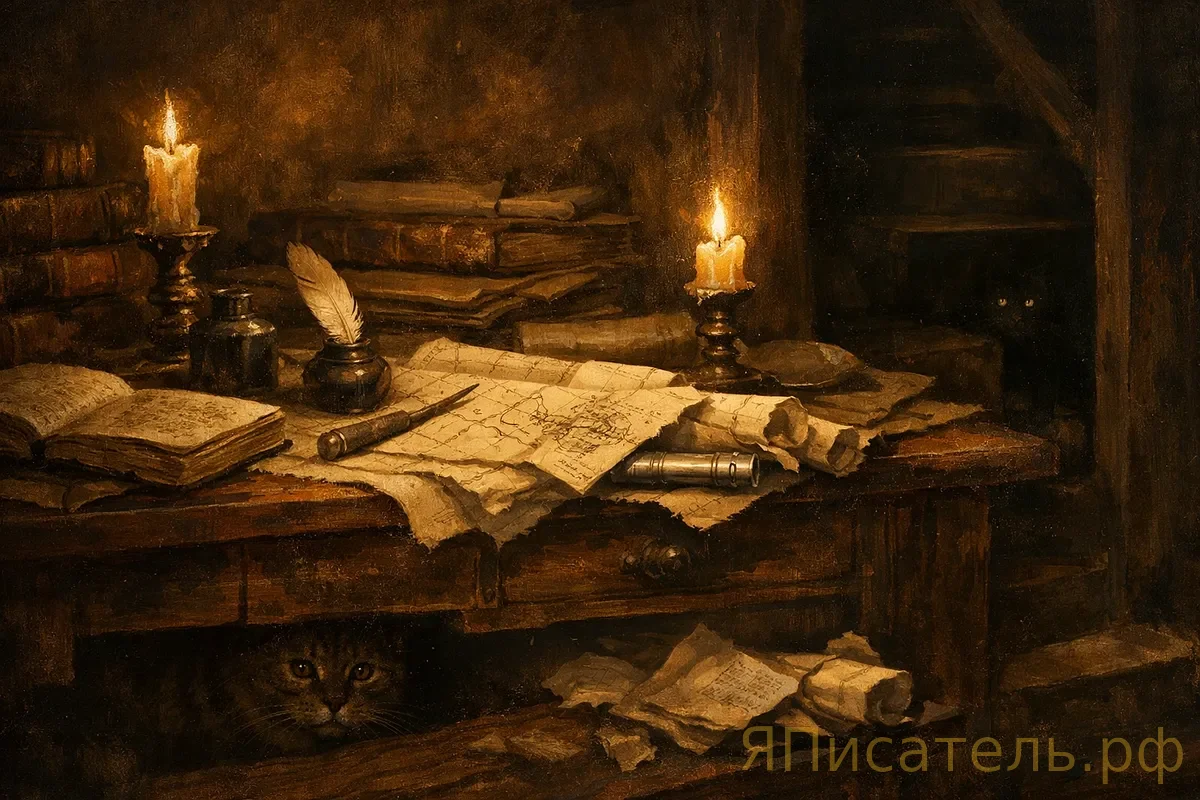
Последняя тетрадь Печорина
Continuación creativa de un clásico
Esta es una fantasía artística inspirada en «Герой нашего времени» de Михаил Юрьевич Лермонтов. ¿Cómo habría continuado la historia si el autor hubiera decidido extenderla?
Extracto original
Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера; напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!
Continuación
В конце сентября, когда на Тереке уже пахло первым холодом, Максим Максимыч получил в Владикавказе пакет, запечатанный чужой, аккуратной печатью. На пакете было выведено: «Штабс-капитану Максиму Максимычу, лично». Старик долго вертел его в руках, прежде чем распечатать, как будто заранее угадывал, от кого в нем боль.
Пакет пришел из Тифлиса с караванной почтой. Внутри лежали потемневшая записная книжка, серебряный перстень и короткое письмо от поручика Л., служившего на персидской границе: «Эти вещи найдены при покойном господине Печорине. Он скончался в дороге от горячки, на обратном пути из Энзели. Перед смертью несколько раз называл ваше имя».
Максим Максимыч, прочитав, снял фуражку и долго сидел молча. Потом раскрыл книжку. На первой странице рукою Печорина было написано: «Последняя тетрадь. Если умру, пусть смеются меньше».
Далее шли отрывочные записи.
«Дорога к морю скучна до отчаяния: песок, пыль, верблюды и лица, на которых точно заранее напечатано, что им нет до меня никакого дела. Я всегда считал равнодушие оскорблением; теперь начинаю подозревать, что это единственная честная форма отношений между людьми».
«Армянин-проводник Арутюн сказал сегодня: у каждого человека своя пуля. Я спросил, верит ли он в это. Он пожал плечами: верю в то, что человек сам идет к своей пуле, когда ему больше некуда идти».
На следующей странице чернила были размыты, но можно было разобрать запись о ночной стоянке. Караван остановился у старого караван-сарая; где-то за стеной плакал ребенок, и Печорин, раздраженный сначала, вышел на двор. Там он увидел персидскую женщину, у которой умирал мальчик от лихорадки. Она просила воды и врача. Врача не было. Печорин отдал свою флягу, потом, ворча, всю ночь менял компрессы. Утром мальчик задышал ровнее.
«Я делал это не из добродетели, а потому что не мог спать от его крика. Но, должно быть, добродетель всегда начинается с какого-нибудь неудобства».
Дальше следовал случай почти анекдотический. Молодой перс, вспыльчивый и гордый, обвинил русского офицера в насмешке и требовал поединка на саблях. Печорин вышел вместо офицера, легко выбил саблю из рук противника и, вместо того чтобы добить, поднял клинок и вернул хозяину.
— Я не люблю убивать из вежливости, — сказал он по-французски, зная, что тот не поймет слов, но поймет тон.
Позже в тетради он добавил: «Я старею: прежде я бы его непременно заколол — из любопытства, что почувствую».
Затем записи стали мрачнее.
«Вчера на переправе лошадь сорвалась, и вместе с ней в воду ушел солдат. Я прыгнул следом почти машинально. Когда вытащили его, он оказался пьян и ругался. Меня это так развеселило, что я долго смеялся, а потом целый час дрожал от холода. Смешно: спасаешь человека, который тебя же обзывает, и чувствуешь не великодушие, а пустоту».
«Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера; напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!»
Эта фраза была подчеркнута дважды, точно он спорил сам с собой.
Последние листы почти не читались. Лихорадка ломала почерк. Обрывки слов: «жар», «море шумит», «опять снится крепость», «Максим Максимыч не простил». И, наконец, последняя недописанная строка: «Если бы мне дали прожить еще десять лет, я, вероятно, растратил бы их так же, но, может быть, хоть один день...»
На этом тетрадь обрывалась.
Максим Максимыч закрыл ее и долго ходил по комнате, тяжело ступая, как ходят старики, которым вдруг стало тесно в собственных воспоминаниях. К вечеру он велел оседлать лошадь, выехал за станицу и там, у обрыва, где внизу шумел Терек, снял перстень с бумаги и бросил его в воду.
— Эх, Григорий Александрович, — сказал он вслух, — умный ты был человек, а счастья не выучил.
Потом вернулся, спрятал тетрадь в сундук и никому о ней не рассказывал много лет, пока уже сам не почувствовал, что память тяжелее молчания.
Pega este código en el HTML de tu sitio web para incrustar este contenido.